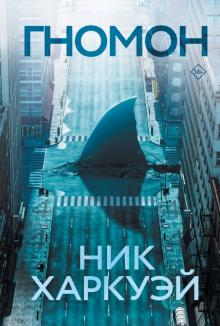Рецензии на фантастические книги
 Внимание! Данная рубрика — это не лента всех-всех-всех рецензий, опубликованных на Фантлабе. Мы отбираем только лучшие из рецензий для публикации здесь. Если вы хотите писать в данную рубрику, обратитесь к модераторам. Помните, что Ваш критический текст должен соответствовать минимальным требованиям данной рубрики: - рецензия должна быть на профильное (фантастическое) произведение,
- объём не менее 2000 символов без пробелов,
- в тексте должен быть анализ, а не только пересказ сюжета и личное мнение нравится/не нравится (это должна быть рецензия, а не отзыв),
- рецензия должна быть грамотно написана хорошим русским языком,
- при оформлении рецензии обязательно должна быть обложка издания и ссылка на нашу базу (можно по клику на обложке)
Классическая рецензия включает следующие важные пункты: 1) Краткие библиографические сведения о книге; 2) Смысл названия книги; 3) Краткая информация о содержании и о сюжете; 4) Критическая оценка произведения по филологическим параметрам, таким как: особенности сюжета и композиции; индивидуальный язык и стиль писателя, др.; 5) Основной посыл рецензии (оценка книги по внефилологическим, общественно значимым параметрам, к примеру — актуальность, достоверность, историчность и т. д.; увязывание частных проблем с общекультурными); 6) Определение места рецензируемого произведения в общем литературном ряду (в ближайшей жанровой подгруппе, и т. д.). Три кита, на которых стоит рецензия: о чем, как, для кого. Она информирует, она оценивает, она вводит отдельный текст в контекст общества в целом. Модераторы рубрики оставляют за собой право отказать в появлении в рубрике той или иной рецензии с объяснением причин отказа. |
Модераторы рубрики: Aleks_MacLeod, Ny Авторы рубрики: Лoki, PanTata, RebeccaPopova, rast22, Double Black, iRbos, Viktor_Rodon, Gourmand, be_nt_all, St_Kathe, Нариман, tencheg, Smooke, sham, Dragn, armitura, kkk72, fox_mulder, Нопэрапон, Aleks_MacLeod, drogozin, shickarev, glupec, rusty_cat, Optimus, CaptainNemo, Petro Gulak, febeerovez, Lartis, cat_ruadh, Вареный, terrry, Metternix, TOD, Warlock9000, Kiplas, NataBold, gelespa, iwan-san, angels_chinese, lith_oops, Barros, gleb_chichikov, Green_Bear, Apiarist, С.Соболев, geralt9999, FixedGrin, Croaker, beskarss78, Jacquemard, Энкиду, kangar, Alisanna, senoid, Сноу, Синяя мышь, DeadPool, v_mashkovsky, discoursf, imon, Shean, DN, WiNchiK, Кечуа, Мэлькор, kim the alien, ergostasio, swordenferz, Pouce, tortuga, primorec, dovlatov, vvladimirsky, ntkj666, stogsena, atgrin, Коварный Котэ, isaev, lady-maika, Anahitta, Russell D. Jones, Verveine, Артем Ляхович, Finefleur, BardK, Samiramay, demetriy120291, darklot, пан Туман, Nexus, evridik, visionshock, osipdark, nespyaschiiyojik, The_Matrixx, Клован, Кел-кор, doloew, PiterGirl, Алекс Громов, vrochek, amlobin, ДмитрийВладимиро, Haik, danihnoff, Igor_k, kerigma, ХельгиИнгварссон, Толкователь, astashonok, sergu, Lilit_Fon_Sirius, Олег Игоревич, Виктор Red, Грешник, Лилия в шоколаде, Phelan, jacob.burns, creator, leola, ami568, jelounov, OldKot, dramaturg-g, Анна Гурова, Deliann, klf2012, kirborisov, tiwerz, holodny_writer, Nikonorov, volodihin, =Д=Евгений, А. Н. И. Петров, Valentin_86, kvadratic, Farit, Alexey Zyryanoff, Zangezi, MadRIB, BroonCard, Paul Atreides, Angvat, smith.each, Evgenii2019, mif1959, SergeyProjektPo, imra, NIKItoS1989, Frd981, neo smile, cheri_72, artem-sailer, intuicia, Vadimnet, Злобный Мышалет, bydloman, Алексей121, Mishel78, shawshin, skravec679
| |
| Статья написана 5 августа 2021 г. 00:45 |
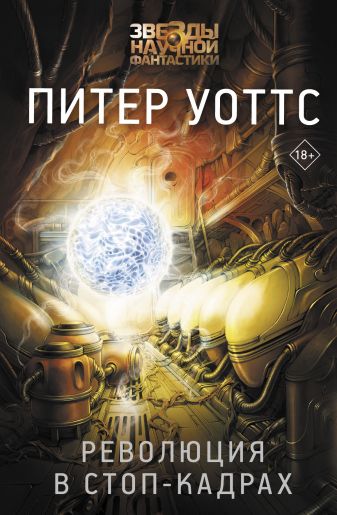 Социальная инженерия в 65 миллионах лет от нас,или (пост)современная глубина "Подсолнухов" Социальная инженерия в 65 миллионах лет от нас,или (пост)современная глубина "Подсолнухов"Уоттс — один из самых главных авторов нашей современности. Или постсовременности. Я пишу об этом не в первый раз. Но в каком смысле он интересен? На мой взгляд, Питер Уоттс не шибко оригинален в архитектонике сюжетов. И не особо изящен в слоге. Последнее ясно по первому его и самому известному произведению — «Ложной слепоте». Как ни посмотри, но с некоторой эстетической точки зрения роман суховат. Но это вкусовщина. Вот что Питер Уоттс делает отлично — и на это уже указывало несколько комментаторов и рецензентов до меня — так это за две вещи. Первая — миры и их атмосфера, ощущаемость непостижимого будущего. В этом разрезе Уоттс — натуральный Лавкрафт 21 столетия. Правда, последнего я до сих пор не читал, но в современных «философиях» и поп-культуре его так много, что не знать мастера ужасов докинговских времен просто невозможно. Будущее Уоттса — вездесущность технологий, которые давно перегнали возможности людей и «мясной жизни». Пришельцы из далекого космоса, которые не тождественны нашим понятиям о сознании, разуме или даже просто жизни. Постчеловечество в виде осьминогов или кибернетических космических змей, которые также полностью отличны от нас с вами. Все это — чистая немыслимость. Непознаваемость. И невероятная угроза сегодняшнему человечеству и его потенциально лучшему будущему. И опасны они не самой своей непознаваемостью, а тем, что единственное познанное в этих угрозах — это то, что пришельцы «Ложной слепоты», мелькавшие постчеловеки «Подсолнухов» и некоторые искусственные интеллекты «Эхопраксии» готовы и хотят нас уничтожить. И это делает Уоттса чистым Лавкрафтом от научной, притом «твердой», фантастики. О другой его особенности, второй, а именно о занятии определенной ценностной, я бы даже сказал идеологической позиции в отношении человеческого будущего — об этом я уже говорил и, видимо, повторю только в рецензии на заключительный роман цикла «Огнепад». Теперь же о самой «Революции в стоп-кадрах». Думаю, если опросить фанатов Уоттса, выяснится, что каждый новый фрагмент истории «Эриофоры» ждут столь же сильно и страстно, как и «Всеведение». И в принципе ожидания оправдались. В остальных рассказах и повестях цикла уже были встречи с необычными инопланетянами, недалеким будущим человечества и несколько любопытных зарисовок отношений внутри экипажа. Теперь мы увидели «Эриофору» глубоко изнутри, со всеми ее интересными гранями и противоречиями. Перед нами интереснейшая цивилизация — или почти цивилизация. В конструировании и рисовании сложной судьбы и устройства общества необычного корабля-как-бы-поколений Уоттс, по сути, состыкует, играет в бриколаж и связывает высокую технологию, черноту пространства-времени и человеческое многообразие. Это вне-утопическое и вне-антиутопическое экспериментирование, социальная фантастика с акцентом не на ту или иную социальную повестку, а именно на создание нового общества. Общество «Эриофоры» — это прежде всего функциональная необходимость, неустранимый жизненный придаток для слабого ИскИна корабля. Ситуацию присутствия людей на автономном разумном космолете можно сравнить с тем предложением, которое поступило от разумных машин главному герою рассказа легенды поздней осени золотого века НФ, Гарднера Дозуа, «Рыцарь теней и призраков». Доля иррациональных творчества и интуиции в серых мыслящих проводах «Эриофоры». В связи с функциональной причиной не все общество «Эриофоры» должно бодрствовать. Тысячи людей спят, дожидаясь выпадения игральных виртуальных костей гранью в их сторону, пробуждаются по небольшим дружеским коллективам — «племенам» — которые в свободное от выполнения задачи время занимаются творчеством, сексом, наукой или чем-либо еще. Это множество «племен», составленные по самым разнообразным признакам и формам, являют собой «единство» (пусть и вызванное не всем одобряемой необходимостью) «в многообразии». Тотальность людей, раздробленную на множество фрагментов, активных по очередности, по сложной, длинной цепочке случайностей. Единственное, что их объединяет — это стены корабля и общая функция. Во многом, кстати, подобное общественное устройство — это отражение современного атомизированного общества, раздробленного новейшей экономикой и особой культурной надстройкой. Но не думаю, особенно читая последнее интервью Уоттса, что здесь есть подобные аналогии. Зато дальнейший сюжет книжки Питера попадает в другую, излюбленную современными философами — или «философами» тему. Тему множеств, множественной онтологии и особых событий, порождающих новые множества. Постараюсь объяснить очень коротко и очень просто. Философия, которая произрастает из наследия все еще живущего Ален Бадью (а также авторов, которые являются представителями поколения самого Бадью, со схожим целеполаганием и истоками собственного творчества), заимствует из математики теорию множеств и по-своему ее использует для своих целей (это такие авторы, как уже упомянутый мною в рассказе "Выскочка"/"Отчаянная" того же Уоттса Квентин Мейясу, Рэй Брассье, Леви Брайант и т.д.). Основное целеполагание, которое лежит за философскими идеями множественности сегодня (и немного вчера) — это идеал освобождения и свободы. Но понятые в разрезе ином, чем у Просветителей, марксистов и еще энного количества авторов, которые говорили о создании новой системы общества взамен старом. Сменить один большой проект другим. Скрепить многообразие вместо одной единой модели другой. Вместо этого данные авторы предлагают отказаться от любой модели единства вообще и представить даже природу, вселенную, все, так сказать, естественное как различные комбинации множеств, ничем не скрепленные свыше. Современное общество же им видится как сковываемое Государством, Капиталом и прочим Единым. Цель освобождения, в таком случае, это свержение всех этих тоталитарных единств и расцвет чистой и свободной множественности. Представьте себе фрактальные фигуры, которые стали основной формой человеческих отношений в обществе — эта образ свободы для философ множественности. И, как мне кажется, что-то похожее, но уже в литературной форме мы видим у Уоттса. Прекрасный социопанк (как я уже «клеймил» роман Р. Ч. Уилсона «The Affinities» и сериал «Рассказ служанки», потому что в последнем за обычным фасадом штамповой критики тоталитаризма скрывается чуть большее) канадского писателя как раз-таки обрамляется сюжетом, повязанным на идее освобождения множественностей от тоталитарного единства через Событие. Событие — это нечто, что ранее не могло быть увидено или предсказано в рамках сложившейся ситуации и данного консенсуса. Это некие моменты жизни, которые могут скованным множествам определенной тотальности позволит сбросить с себя ее иго. Пересобраться по-новому, вокруг новой точки сборки, как сейчас модно говорить, и сбросить с себя любые новые тотальности и освободить чистое бурление, создание, союзы бесконечного потока множеств. Далее, спойлер (!!!), Событие «Революции стоп-кадров» — это открытие героями отсутствия части экипажа со времени старта миссии. Их полное исчезновение из любых списков и коллективной памяти общества «Эриофоры», не говоря об ИскИне. И дальнейшие события, создание «революционного комитета» и плана свержения «режима эриофорного компьютерного левиафана» — это все процесс прорыва искусственно навязанный тоталитарной необходимости и освобождения пестрого множества племен. В итоге, конечно, план провалился. Как известно, все оборвалось на, спойлер (!!!), интересном месте — обнаружению присутствия гипотетического сильного ИскИна корабля. Об этом есть интересное обсуждение на форуме. Ну и перед тем, как перейти к заключительному абзацу, где я объясню, почему же при всех похвалах социологической фантазии Уоттса я поставил только 8 из 10 баллов, добавлю следующее. Не думаю, что Питер как-то штудирует всякие там новые или старые философии. Скорее, как и с символическим совпадением дат выхода оригинальных первых изданий «Ложной слепоты» и «После конечности» Мейясу, дело в одинаковом запечатлении и улавливании духа времени. И еще. Расшифровывая философскую подоплеку, которой, вполне возможно, и нет вовсе в романе, надо упомянуть одно замечание совсем коротким предложением. Та диалектика свободы и не-свободы, о которой я писал в недавней рецензии (или скорее эссе) о фильме "Черная вдова" уместно и здесь. Непонимание революционерами Уоттса вечной связи единства и множества, случайности и необходимости, не дает им понять, что освобождение — это не тотальный отказ от единых принципов и целей (в конце концов такой отказ — тоже тотальная цель и тоталитарный, абсолютный принцип, как и в случае с выражением «все относительно», которое само по себе не относительно). Это замена принципа, который приносит вред, тем основанием и целью, которое приносит благо максимально большему количеству людей. Это непонимание привело к тому, что некоторые заговорщики, включая Сандей, стали видеть в своем лидере, представляющем чистый хаос и «сделаю все ради свободы в своем понимании», вариант решения проблемы не лучший, чем дальнейшая власть Шимпа. Порядок хаоса и порядок порядка — суть одно и не должное. Так в чем ж минус-то? Интересный мир, любопытное общество, «вмятина» очень важных штрихов духа времени нынешней реальности, добротная квази-детективная линия, качественные отношения между героями — что же не так? Основная проблема большинства относительно крупных произведений Питера Уоттса — эта назойливая схематичность и самоповторы. Вот давайте внимательнее взглянем на «Ложную слепоту», «Эхопраксию» и «Революцию стоп-кадров». Что в них общего кроме того, что действия 2-ого и 3-его произведений протекает в космосе, а события 1-ого и 2-ого происходят в одной вселенной? Да то, что все они разворачиваются по абсолютно одинаковой схеме Питера с проверенными элементами. Главные герои — Сири Китон, его отец и Сандей — все выбивающиеся из общей среды люди с большими особенностями, практически на физиологическом уровне. Сири, как мы знаем, не совсем человек после пережитой болезни (а что с ним сейчас — бог весть), Сандей в «Выскочке» пережила эффект «квантовой свободы» в ядре Солнца, который изменил ее навсегда. Отец Сири почти полностью лишен разных модификаторов тела, а в конце «Эхопраксии»... опять же сами знаете. Далее. Герой и другие персонажи сталкиваются с чем-то совершенно иным и чуждым им явлениям. Пришельцы вне рамок разума и сознания, потенциальная цивилизация вампиров с восстанием коллективных разумов и бесконечное приближение, спойлер (!!!), к стиранию всего экипажа ради достижения успеха миссии «Эриофоры». В конце концов сам социопанк, который предлагает Питер Уоттс. Сравните сообщества экипажа «Эриофоры» с сообществом вампиров. Члены экипажа не могут организовать целостную цивилизацию и вообще общество из-за того, что лишь небольшая часть команды может бодрствовать. Притом в короткий период. Вампиры из-за искусственно усиленного инстинкта территориальности так же не могут этого добиться. Для того чтобы достичь цели повстанцы на корабле выбирают стратегию долгой революции, перераспределяя обязанности на время недолгих активностей и передавая информацию через зашифрованные послания. Схожим образом стараются поступать и вампиры. Так или иначе вышло интересно и круто. Чувствуется дух времени все усложняющегося и идущего к серьезному кризису общества. Есть интересные и оригинальные фантдопущения. С другой стороны самповторов не мало. Пусть в случае необычных цивилизаций вампиров и «Эриофоры» эти самоповторы и выглядят любопытно. "Революция в стоп-кадрах" на фантлабе
|
| | |
| Статья написана 24 июля 2020 г. 17:13 |
 | | 1989, роман Свой роман «Немезида», который критики сочли не слишком удачным, Айзек Азимов посвятил «Марку Херсту, моему незаменимому редактору, который, как мне кажется, работает над моими рукописями больше, чем я».
Речь в книге ведется об еще не изученной звезде, прячущейся за пыльной тучей на полдороги от Солнца до Альфы Центавра. Действие происходит в 2236 году и Земле угрожает гибель. Ученые с околоземной орбиты строят звездолет, способный развивать скорость света. Этот корабль и открывает в системе Немезиды планету Эритро, вполне приспособленной к жизни человека, но пагубно влияющей на его мозг. Лишь дочку главного героя Марлену не затрагивает «эритроническая чума», поскольку, как позднее выяснилось, она с детства владела некими телепатическими способностями.... |
|
«Немезида» во многих справочниках называется последним романом Азимова. В принципе, это можно считать верным в том смысле, что более поздние работы были им написаны в основном в соавторстве с Робертом Силвербергом и его женой Джанет. То есть, это последний роман, написанный им в одиночку. Важно это или нет – даже и неясно. Такого рода факты провоцируют к поиску чего-то типа «финального аккорда» или «подведения итогов творческогопути», но очевидно, что в данном случае это не может быть правдой. Помимо всего прочего – Азимов слишком большой жизнелюб, чтобы заморачиваться такого рода материями. Так что не будем этим заморачиваться и мы и посмотрим на книгу как на еще один роман классика НФ-литературы, относящийся, как говорится, к его позднему периоду. Последнее замечание важно как раз в приложении к Азимову – все мы знаем, что зачастую он вполне сознательно стремился устанавливать связи между своими книгами – даже теми, которые выходили за пределы самого известного его цикла. Кстати, автор это учитывает и в своем небольшом предисловии прямо говорит, что, с одной стороны, эта книга совершенно не связана с остальными его книгами, но с другой допускал, что ему захочется написать еще одну, которая такую связь установит. То есть он видел и понимал, что такая связь как минимум возможна. Я заметил, что авторские предисловия Азимов начал писать как раз в своем позднем периоде. Интересный момент – получается так, что он почувствовал потребность в прямом обращении к читателю. Сложно сказать, что подвигло его на это. Как правило, в этих коротких обращениях он в основном говорит о своих книгах – их хронологии, направлении развития, отвечает на, вероятно, много кратно звучащие вопросы о, так сказать, сиквелах, приквелах и спин-оффах (и всегда говорит, что напишет их столько, сколько сможет). Но в предисловии к «Немезиде» он вдруг делает признание – говорит о том, что его творческим кредо всегда было писать просто, не пытаться писать, как он сам говорит poetically or symbolically or experimentally – несмотря даже на то, что это, вероятно, самый просто путь к получению Пулитцеровской премии. Писать просто – это значит идти к читателям кратчайшей дорогой, а критики могут думать по этому поводу все, что хотят. Такое признание дорогого стоит. Согласиться с ним или нет – личное дело каждого. Я сам могу найти аргументы и за и против такой позиции. За – то, что писатель тут совершенно прав и этот путь наиболее прямой и короткий. Против – этот путь зачастую лишает читателя радости открытия, или, если хотите, ощущения сотворчества, когда он приходит к тем или иным выводам сам, когда писатель не учитель, который просто задиктовывает тебе правильный ответ, а скорее спутник, который идет где-то рядом, мягко направляя твои усилия. Можно долго спорить, что лучше, но не надо забывать, что итог-то оказывается один и тот же, различаются лишь пути. Так что я бы тут сказал так – нужно уметь получать удовольствие от всего, что может его доставить. А не отказываться от чего-то по причинам, мало относящимся к делу. Но вернемся к книге. Действие происходит в будущем – в 2220-2236 годах. Земля остается Землей, но вокруг нее растут космические поселения – огромные объекты с искусственной гравитацией, который в основном обеспечивают себя всем необходимым. Основным двигателем сюжета является конфликт между одним из поселений, которое называется Ротором, и Землей. Конфликт скрытый – большинство жителей Ротора терпеть не могут Землю вследствие ее скученности, смешения культур, грязи, постоянной смены погоды и прочего хаоса. То ли дело поселение – всегда одна и та же температура, люди одного типа, строгий порядок во всем. Этот конфликт в той или иной степени существует между Землей и всеми поселениями, но Ротор отличается от прочих. Во-первых, там хорошо развита наука, в частности астрономия и физика, а во-вторых, во главе поселения стоит Янус Питт, который Землю не просто недолюбливает – он ее ненавидит всею силою души. Мечта всей его жизни, чтобы между ним и Землей лежало как можно большее расстояние. А в идеале Землю нужно уничтожить как постоянный источник хаоса. И вот физики Ротора открывают гиперсодействие – некий способ движения, который позволяет кораблю, даже такому огромному, как космическое поселение лететь со скоростью, близкой к световой. А после запуска экспериментальных зондов астрономы Ротора обнаруживают звезду примерно на полпути между Солнцем и Проксимой Центавра, звезду, надежно скрытую от Земли пылевым облаком. Обнаружим это, Питт организует побег Ротора к этой звезде, которая получает имя Немезиды. Получает сначала случайно, но потом роторианские астрономы выясняют, что Немезида движется в сторону Земли и, вполне возможно, ее прохождение в относительной близости от нашей планеты может вызвать на ней серию катаклизмов, которые уничтожат на ней как минимум разумную жизнь. Так что имя оказывается глубоко символичным, что откровенно радует Питта. Но на Земле есть человек, чья паранойя может соперничать с паранойей Януса Питта. Это Каттиморо Танаяма, который на Земле будущего руководит чем-то вроде тамошнего ФБР. В отличие от большинства землян Танаяма весьма сильно недолюбливает поселения и постоянно ждет от них подвоха. Уход Ротора едва не сводит его с ума и он включает все свои ресурсы для того, чтобы разобраться в том куда, как и зачем улетело строптивое поселение. Углубляться в пересказ сюжета я, естественно, не буду – отмечу лишь, что описанный конфликт красной нитью проходит через творчество Азимова. Это, собственно говоря, очередной перепев конфликта Земли с космонитами из цикла про Бэйли. Можно констатировать, что вопрос «что завоюет Галактику, порядок или хаос» интересовал его всегда. И решал его Азимов в пользу последнего, видя в излишней упорядоченности слабость, а не силу. Причем в «Немезиде» он попробовал копнуть поглубже и определить, за счет чего это происходит. Ответ выглядит примерно так – в максимально упорядоченном обществе отклонение от нормы вызывает инстинктивное желание это отличие немедленно сгладить, в отличие от противоположной стороны, которая на таком отклонении может выстроить стратегию развития. Этим глобальным конфликтом книга не исчерпывается, ее герои сталкиваются с самыми разными вопросами. Например, ложь – что заставляет людей врать и можно ли избавиться от этой привычки, а также – что произойдет, если будет сделана такая попытка. Другой вопрос – несколько неожиданный – честолюбие и стремление к получению воздаяния за свои свершения, в каких случаях это хорошо, в каких – нет и как можно использовать это чувство в своих собственных — благородных и не очень – целях. Плюс – с немного странной дотошностью показано, как может зародиться и поддерживаться любовь между взрослыми людьми. Интерес Азимова к жизни в самых разных ее проявлениях поистине безграничен. Отдельно стоит отметить уникальную для автора попытку рассмотреть вопрос контакта с иной жизнью. Попытку нельзя назвать полностью удачной, слишком многое осталось за кадром и слишком многое не объяснено, но книгу это скорее украсило. Иными словами, идейное и интеллектуальное наполнение книги – на высшем уровне, что, конечно, является для Айзека Азимова нормой. К сожалению, такого нельзя сказать о наполнении событийном – книга почти не содержит каких-то сюжетных поворотов или ярких сцен. Почти вся информация дается в диалогах – порой очень длинных и излишне подробных. Порой они утомляли. В целом, мне показалось, что «Немезида» должна была иметь какое-то продолжение – слишком многое в ней оставлено «как есть» и просто требует дальнейшего развития. Но увы, о том, в чем оно заключалось мы уже никогда не узнаем. Отдельно стоит отметить фирменную азимовскую веру в торжество разума и в способность человека решать встающие перед ним задачи. Его вера в человека нисколько не ослабевала с годами и тут можно ему только позавидовать. Ну и попробовать брать с него пример.
|
| | |
| Статья написана 12 июля 2020 г. 23:54 |
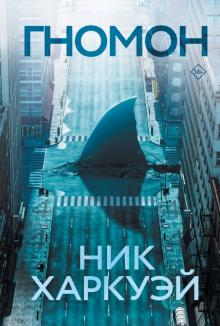 Метамодернизм между Оруэллом и Хаксли,или (анти)утопия цифрового век Метамодернизм между Оруэллом и Хаксли,или (анти)утопия цифрового век«Гномон» Ника Харкуэя прочитал еще месяц или больше назад, но копания в философском нон-фикшине отнимает слишком много времени для создания рецензий и чтения художественной литературы. В принципе, глядя по рецензиям и комментариям, по большей части все о романе, его подтекстах и контекстах, сюжетных ветках и фантастических ходах раскрыли и обнаружили. Попробую вставить пару-тройку небольших пометок от себя. Тем более перерыв между прочтением произведения и написанием очерка по нему может помочь сказать лишь главное и должное, без лишних слов. «Гномон» — книга метамодернистская. Попытка преодоления иронии и релятивизма интерпретаций постмодерна. Притом методами, инструментами и механизмами самой постмодернистской махины. Ломанное, нелинейное повествование, стог из нескольких, казалось бы, никак не связанных, параллельных историй, вроде бы широкое поле для интерпретаций, целый список отсылок на те или иные произведения литературы современной и классической. Все как в хорошем постмодернистском тексте. Но Ник Харкуэй в романе (как он сам отмечает в послесловии к работе) занимает достаточно ясную и прямую позицию. Делает политический жест, который проходит через всю канву основного сюжета и собирает в самом финале все прочие истории. По сути вся книга — один многослойный манифест в современной литературной форме. Призыв бороться с диктатом в реалиях цифрового капитализма, который в год коронакризиса может и разрастается сильнее, чем раньше... Другое дело, что призыв и вся эта манифестация — красивая, книжная, но, на мой вкус, несколько затянутая — снова негативная. В смысле чистого отрицания, но не предложения. Такие же, как антирасистские выступления в США в недавнем времени, которые мелькают у Харкуэя в описании Англии скоро будущего. Все сюжетные линии «Гномона» так или иначе обнажены прошлыми комментаторами. И ветка-стержень в виде полицейского расследования Нейт Мьеликки (которая в конце неожиданно перевернется, хотя, думаю, ценители фильмов и книжек с подобными особенностями ближе к финалу хотя бы почувствуют примерную точку кульминации), и первой любви Августина (отсылки на гностиков и мистические пышности поздней античности), и трагичного грека-нарцисса Константина (в истории которой продолжаются неоплатонические оммажи Харкуэя, которые, позволю себе заметить, хоть и красивы, но особой глубины «Гномону» не добавляют; писатель явно читал платоновский «Пир», но его же «Парменид» — вряд ли), и эфиопского художника из эпохи ажурного авангарда и «новых левых» в веке высоких технологий и «новых правых», и... Успели разобрать их имена и связи. Добавлю, что постепенное нарастание взаимности между историями, связности и выдерживание гармонии роста и развития между ними — мой поклон Нику. Отлично сработано. Другое дело, что я опечален историей с «Гномоном». Честно, хотелось *спойлер!* увидеть в фундаменте сюжетных ураганов и цунами, в самой книжной тверди что-то вроде «Города в конце времен» Грега Бир. Черт подери, я обожаю «стэплдианы», самого Стэплдона и особенно этот бировский роман. По моему скромному мнению, одна из лучших книжек о столь далеком будущем, в котором умирает вселенная, технологии давно живут по законам Кларка о магичности, а люди стараются вернуть все на свои места. Очень жаль, что Харкуэй лишь забросил удочку для любителя подобных книг, как я, в аннотацию «Гномона». Какие-то фрагменты истории столь далекого будущего имеются в романе, но для меня их было слишком мало. Кстати, из схожих мест и возможных отсылок на другие произведения мне явно вспомнился Рэй Брэдбери с его классическим и затертым от регулярных цитирований «451...», а также некоторые общие места с классикой телевизионной фантастики 21 века — «В поле зрения». И совсем чуть-чуть увидел что-то общее с «Миром дикого запада». В виде сериала, конечно. Итак, вернусь к политической жестикуляции Харкуэя. Повторюсь, что «Гномон» не шибко философский и глубокий по содержанию (хоть и любопытный по форме) роман, но рассчитанный на прогрессивного «левого» (в самом широком смысле) читателя из среднего городского класса в Западном мире. Автор рисует в принципе красивый мир «Культуры» Бэнкса на минималках. Капитализм с человеческим лицом и, что самое главное, без беса государства и бюрократии. Все, как по Ленину, казалось бы, стали бюрократами, а значит никто не бюрократ! Электронная демократия пронизывает все уровни общества и решает все вопросы. Но в конце *спойлер!* выясняется, что это далеко не так. И за колоссом эгалитарного равенства в цифре кроется левиафан диктатуры единиц. Ради общего блага, конечно, который позволяет этим ребяткам совершать трепанации и убийства вредоносных для Системы элементов. В конце Ник показывает, что эти злодеи скорее павшие в череду ошибок антигерои, которых можно вернуть на правильный путь. В конце концов за все их «ошибки» главная героиня (настоящая, которая Хантер) никак их не карает, да и вообще суда над ними нет. Как и работу Системы. И все станет хорошо... Но, боюсь, это не так. Такая антиутопия не станет утопией. Это мелкобуржуазный, простите мой лево-французский, рай, который в любой момент может стать чистилищем. Я бы мог сказать про классовый вопрос и прочий «типичный марксизм», от которого, возможно, некоторых уже тошнит в моих рецензиях. Но я скажу другое. Главная героиня, Мьеликки, и многие другие персонажи книги — безмерно одиноки. И второстепенные, и главные герои. Они живут в атомизированном мире лишь с иллюзией всеобщей взаимосвязи. Разорванный мир, который Харкуэй предлагает преодолеть («хватит разрываться», как кричали греческие националисты и монструозный Гномон), не преодолевается, потому что все одиноки и оторваны друг от друга не по собственному желанию, а по объективным причинам. Система одиночек никогда не приобретет человеческое лицо, потому что сами ее атомы-люди расчеловечены. Настоящая общность и адекватное равенство не в виде уравниловки наступит, которая само общество и каждый его участник станут наполнены человечностью — непосредственными связями друг с другом и мировым культурным наследием человечества. Иначе перед нами предстает электрофизированная оруэлловщина. Система в «Гномоне» это как ленинская формула коммунизма (а точнее только начала пути к нему) из суммы советской власти и электрификации. Здесь же цифровизация и диктатура большинства плюс избранных единиц из него. Тоталитаризм в модернизированным варианте из «1984», такой же децентрализованный, и от того крайне устрашающий. Мир «Гномона» чем-то схож на «техноутопию в отдельно взятой стране» Игана в рассказе «Дискретная машина...», где люди тоже утратили свободу над собой. А свобода утрачена из-за разрывов между людьми и узости трудовой специализации. Так или иначе, оканчивая с подноготной «политотой», которую я осилил разглядеть в романе, книга Ника Харкуэя — неплохой представитель метамодернизма и новой чувственности, которая старается преодолеть каноны жанра оруэлловской антиутопии, но впадает в более развитый, но тоже устаревший антиутопический вариант «О дивного, нового мира» Хаксли. «Атомная бомба» последнего, метафорически выражаясь, в том, что некоторые читатели видят в этой антиутопии совершенно обратное и очень даже утопическое... "Гномон" на фантлабе
|
| | |
| Статья написана 28 апреля 2020 г. 20:33 |
 Норвежский призрак коммунизма,или красные шведы на самоизоляции Норвежский призрак коммунизма,или красные шведы на самоизоляцииОса Авдич, как сообщают скудные данные рунета, «шведская писательница и журналист, ведущая популярного утреннего шоу Morgonstudion на шведском телеканале SVT1». И роман «Эксперимент «Исола»» — ее литературный дебют. Притом, дебют этот возможно откроет некоторую книжную вселенную. Но как минимум закладывает основание для второй книги, так как стержневая загадка произведения осталась под покровом тайны. Но обо всем по порядку. «Исола» начинается с выдержки об альтернативной Швеции из альтернативной Википедии. В ней говорится ровно столько информации, как и в российской аннотации. Мир романа — альтернативное будущее, где «коммунистические» режимы Восточной Европы разродились и пошатнули основы западного мира. Как минимум весь Скандинавский полуостров становится частью некоего Дружественного Союза, а его части, некогда суверенные государства, входят в нем в статусе протектората. При этом совершенно не ясно, есть ли в этой временной Советский Союз, или нет, и какие события привели к отщеплению этого мира от нашего. То есть в дальнейшем тексте кроме каких-то крох новой информации политическое мироздание вселенной остается неясным. Жаль, но повествование все равно не об этом. Главная героиня обманчивым движением пера Авдич появляется не в самом начале книжки. Притом манера повествования, смена прямой речи на линии событий от первого лица, добавляют некоторых вопросов, например, насколько реальна речь умерших персонажей (спойлер!), кому она рассказывается и в какое время по отношению к основным событиям романа. Но вернемся к Анне Франсис. Она как и многие другие герои — бюрократы не очень понятного профиля в партийных министерствах. Анна — мать-одиночка, отдающая всю себя работе и травмированная в свое время жуткими событиями в Средней Азии (которые, возможно, намекают, что не все в порядке с целостностью СССР). После тех самых психически тяжелых лет в лагерях беженцев и гуманитарных катастроф в евразийской глуши, высшее руководство Партии предлагает Анне вместе с группой абсолютно не похожих друг на друга людей (старый вояка, ведущая политновостей, интроверт-возлюбленный Анны и другие) необычное задание. Отправиться на остров с говорящим названием Исола в глубокую самоизоляцию на несколько дней. Цель задания через проведение психологического эксперимента выявить кандидата для загадочной государственной должности. Притом главной героине предстоит сыграть роль живого «трупа», которая, как оказывается, не является единственной ролью Анны в партийных интригах шведских «злых большевиков»... Более подробно говорить о сюжетных линиях «Исолы» как довольно миниатюрного романа, думаю, не стоит. Скажу только, что на сравнительно небольшом текстовом объеме Оса Авдич создает интересных для разового чтения персонажей и строит интересные сюжетные ходы и повороты. Не на все сто процентов неожиданные, но все же увлекательные. Детективная линия, переплетение историй разных героев, конечная развязка — все это Авдич выполнила, может, и не на уровне мэтров жанра, но вполне для неглупого, пусть развлекательного чтения в грустные псевдокарантинные деньки. Отдельно благодарю писательницу, что создаваемый ей политический фон хоть и выхолощен (оттого создается впечатление его ненужности для событийного содержания — такой эксперимент вполне могло поставить и вполне капиталистическое правительство), зато не впадает сверх меры в оруэлловщину. Да, пресловутые пионеры, цензура, дефицит, погоня за западной модой, вездесущая партия встречаются на страницах книги, но в исключительно редких случаях. И сильного отторжения от «красной» Швеции не вызывают. Единственный минус «Исолы», на мой взгляд, это полнейшее умолчание к концу книги о том, что же представляет собой проект RAN. И зачем к нему требуется такой тщательной подбор людей, почему от них столь многое должно зависеть. Повторюсь, возможно, что все это — завязка для цельной саги в формате политико-психологического триллера. Но вполне может быть, что таинственный проект — обычный макгаффин, который не должен объясняться. Тогда добротные, но средние события книги по типу «что бывает с людьми, если они оказываются в экстремальных условиях и отрезанности от внешнего мира», а также политический каркас лишаются даже эфемерного основания и связности. Превращаются в «ну просто я хотела написать книжку, где у власти шведы-большевики, они проводят бесчеловечные эксперименты, ну, а как, зачем, почему, какие проблемы современного мира поднимают такие сюжетные предпосылки, почему нужно было выбирать для сюжета именно такой мир, почему это будущее ничем технологически не отличается от нашего настоящего и т.д.». В итоге, отбрасывая все мои не очень серьезные и жесткие претензии к роману Осы Авдич, скажу, что это легкий, но интересный детектив, который не метит в новаторские работы или уровень классиков жанра, но способен развлечь и удержать внимание на пару часов самоизоляции. Надеюсь, что открытые вопросы книги найдут свое продолжение и решение в последующем творчестве писательницы. Так или иначе книга смогла принести мне свою долю удовольствия в полугодовом отсутствии художественной литературы. "Эксперимент "Исола"" в фантлабе
|
| | |
| Статья написана 29 октября 2019 г. 02:51 |
 Биполярная рецензия-4:Великая Фата-Моргана,или вновь вопрошая о сознании и свободе Биполярная рецензия-4:Великая Фата-Моргана,или вновь вопрошая о сознании и свободеИзначально думал сделать совсем небольшой очерк по рассказу Грега Игана "Повелитель воли" (1993) (*). Впрочем, все еще надеюсь, что получится остаться в разумных границах. А потом вспомнил, что формат "биполярной рецензии" все три раза (первый, второй и третий) приводил к крайне интересным и продуктивным дискуссиям в комментариях, поэтому решился добавить к рецензированию этого произведения другого хорошего рассказа автора — "Соломинка, подхваченная ветром" (1995). Тем более что темы в них поднимаются очень стройно сходящиеся друг с другом. А именно набивающий оскомину современным философам, когнитивистам и физиологам (который своим кочеванием из одной многословной статьи в другую в этой колонке, наверное, изрядно надоел) вопрос о природе сознания, что оно есть на самом деле. Это подноготная, стержневая линия "Повелителя воли". "Соломинка..." же отсылает нас к гипотетическим, потенциальным пейзажам Технологической Сингулярности, где появилась возможность для Сингулярности Биологической и революционного переворота в экзистенциальном, социальном, религиозном и иных планах. И вопрос, конечно, а стоит ли такая странная не-совсем-революция неизбежных и радикальных издержек? О чем произведение? 1. "Мистер...": ...Сознание — это конфликт. Сильное заявление, да, и я даже постараюсь его проверить. Кроме противоречий в мышлении и в психике, кроме бесконечных споров философ и нейрофизиологов друг с другом (ведь в спорах, на самом деле, рождается не истина, а только конфликт), есть еще один смысл, контекст для подобной формулы. Начну с откровения, что мое первое образование именуется пугающим словом "конфликтология". Как и в любом современном вузе, гуманитарное образование и наука вообще, к огромному сожалению, лишь переливание из пустого в порожнее, откровенная многословная пустота со всякими "концептуальностями" и "дискурсами", с полым, выхолощенным учебным процессам. В такой обстановке лишь самообразование спасает. А также подсказывает вместе с элементарной формальной логикой, что понятие "конфликт" внутренне противоречиво и избыточно. Ведь оно включает в себя явления качественно ну очень, очень разнородные и отличные — какие-нибудь внутриличностные конфликты, межведомственные, семейные. Это всего лишь случайность и даже глупость, называть эти разные вещи одним словом, а уж тем более возводить этот уродливый языковой конструкт в ранг объекта научного изучения. Про универсальные методы их решения, инвариант примирения всех со всеми я умолчу, ведь тема совершенно иная. А именно есть ли сознание, как и, положим, конфликт всего лишь языковая ошибка? Горькое заблуждение? И имеется ли место свободе в нашей природе? Главный герой, Алекс, живет, как и многие другие герои Игана, в мире на пороге радикальных технологических и социальных трансформаций. Капитализированный прогресс уничтожает рабочие места, а сопутствующая ему структурная безработица становится обыденной данностью. Ждать, когда же роботы будут жить за человека, остается немного. Но Алекс худо-бедно справляется, занимаясь воровством в темных переулков технологических побрикушек и валюты у состоятельного класса. Кроме того, в эти секунды и более свободные минуты он живет, размышляя об экзистенциальных, философских вопросах. Насколько он свободен? Где, в каких дебрях, вне социально-культурных установок лежит его воление, машина желаний, истинное, самое свободное "Я"? И вот украденное у богатого паренька научное чудо дает пугающий и неоднозначный ответ... 2. "Соломинка...": ...Шестидесятые, семидесятые годы прошлого века. Хиппи, студенческие бунты, рок, новые левые и психоделическая революция, во многом определившая путь и конец всех перечисленных вещей. Вот те слова, которыми можно отчасти передать суть той эпохи. Грег Иган в "Соломинке..." количеством слов несколько большим рисует эпоху, лежащую впереди от наших дней на десятилетие-другое. И в ней психоделическая магия, запряженная духом левацкого бунтаря, способно либо сгубить все, называемое человеческим, либо открыть дорогу целой эре свободы. Положить конец царству необходимости по Марксу. Вопрос только в том, не освободит ли свобода человека от самого же человека. Именно перед такими сценариями будущего всего человеческого рода оказывается наемник большой фармакологической компании. Которая, разумеется, без разработки биологического оружия обойтись не способна. Прибыль, ничего личного. А когда один из ее ключевых разработчиков, в прошлом любитель левых революционных статей и романов, Гильермо Ларго, исчезает в искусственных джунглях латиноамериканских наркобаронов, главного героя посылает для его возврата к работодателям. Или к переходу в неживое состояние. Но все оказывается на порядок сложнее, в том числе мотивы Ларго и его работа в компании... В чем глубина и посыл? 1. "Мистер...": ...Имплант, воспроизводящий перед взором Алекса странные, причудливые узоры и схемы, оказывается машиной интроспекции. Неким усилителем внутреннего, мысленного взора, глаз души, который как под микроскопом позволяет разглядеть каждую мысль своего владельца. И вот с каждым новым взятым уровнем увеличения, подробно разглядывая свои ментальные лабиринты, Алекс все ближе подходит к тому, чтобы по-ницшеански отринуть мораль и совершить прыжок веры к самому себе. К своей свободе, которой, как думается главному герою, он и является. А всякие социальные нормы преграждают нам эту дорогу. И вот Алекс открывает в себе Повелителя Воли — как он думает, самого себя. И вот, подставив дуло пистолета к виску очередного среднеклассовца, имплант, как микроскоп или подзорная труба приближавший мельчайшие частицы правды к Алексу, достиг изначального уровня сознания. Наткнулся на ментальные пиксели, мыслительные кирпичи своего носителя. А они показали, что главный герой и любой человек не обладают никаким "Я" — что декартовским, что сартровским или иным. Нет вас как некоторой единой сущности, даже в представлении вульгарного материализма позапрошлого столетия. Все гораздо причудливее и ужаснее. Ведь сознание, как и говорит чаще всего когнитивстика, есть скопление бессознательных процессов. Не эмерджентное свойство мозговых тканей, как, например, у Джона Серла, который в этом понимании ближе к марксизму, чем любой другой аналитический философ в данном вопросе. Именно из бессознательных процедур, из взаимодействия довольно большого числа нейронных комплексов, которые на самом первичном уровне есть разрозненные недосознания. Конфликтующие друг с другом неразумные, но наделенные определенной информацией организмы, которые на высшем уровне своих взаимосвязей образуют коллективное сознание. А оно самообманом предстает самому себе, то есть нам и Алексу как монолитное "Я". Это открытие спасает избежавшую смерти жертву Алекса, но, на мой взгляд, мало решает долгий и все никак нерешаемый вопрос сути сознания. Очень просто сказать, что сознания на самом деле просто нет как в любом плане понимаемой сущности, некоторой вещи. Только как, возможно, не самым философским способом (вспоминаем пытавшегося ходьбой опровергнуть Зенона Элейского) Джон Серл показывал, что ваша мысль, чем бы она не была, заставляет руку подняться вверх. Переходит ли тут бессознательное в сознательное — это вопрос второй. Важнее, что ваше сознательное желание превратилось в физическое перемещение физического объекта. Остается разрыв в объяснении, а напирать на иллюзорность проблемы у отрицателей сознания пока получается не очень. Во всяком случае, на мой взгляд. А трагический, но человечный финал рассказа мог закончиться совсем иначе. Ведь "поймавшее дзен" несуществующее "Я" Алекса могло интерпретировать свою машину переплетенных желаний как Орудие Сверхчеловека, заглушив все остальные бессознательные миролюбивые пучки нейронов. К сожалению, нейрофизиологическое убийство сознания не убивает вместе с тем нацизма и злого, темного варианта экзистенциализма. Без сарказма талантливый и энциклопедичный Иган здесь, увы, просчитался. Его решение — лишь оправдание для действительных машин убийства, а вот упомянутый Грегом Сартр с полной ответственностью каждого человека за принимаемое им решение, даже если "Я" — языковая иллюзия, как раз способен противостоять фашиствующим зверям и самому себе... 2. "Соломинка...": ...Целью наемника оказывается создатель "серых рыцарей" — искусственного вируса, который позволяет своему носителю перестраивать архитектонику мозга по собственному желанию. Точнее, изменять самого себя по своей же воле. Притом это фантастическое допущение посильнее тех гипотетических нейроимплантов из рассказов самого же Грега, которые временно могли изменить некоторые свойства своего носителя. Так сказать, сделать его на пару часов смелым, религиозным или даже поэтом. А "серые рыцари" позволяют изменить строй ваших мозгов навсегда. Всего лишь сильно захотите — прямо как на лучших сеансах различных тренеров личностного роста, не правда ли? А тут правда. С фактом существования "серых рыцарей" Сократу пришлось бы согласиться со своим учеником, что душа человека схожа с гармонией лиры. То есть ее взаправду можно подтянуть, откалибровать и сделать совершеннее. Но и расстроить в таком случае тоже, ведь и это верно? Неужто все захотят быть поэтами, художниками, эмпатами, альтруистами, героями и т.д. словами со знаком плюс? Или хотя бы не минус. Общественное бытие, черт его, настаивает на своем и оскверняет чистый лист, который становится человеком, как ему вздумается. Пусть случаются ошибки и получаются сильные, правильные и способные к борьбе за более справедливый мир личности, но их единицы. И не из-за природы человеческих мозгов, а из-за тела социального организма — всего огромного человечества, экономически и географически составляющего капиталистическую мир-систему. Мы не ангелы, как правильно заметили герои рассказа. И далеко не все из нас хотят ими стать, потому что так велит мир. Надо его изменить, а для этого, чертовы парадоксы, надо изменить себя! Сломить общественные оковы лицемерия, конформизма, страха, тщеславия, лености и начать действовать. Сложно, но возможно. История щедро покажет вам перечень тех "счастливчиков" (потому что им не повезло родиться с лучшим устроением мозгом — они сами его изменили, без всяких там рыцарей), кто смог стать лучше. Для этого требуются жертвы, время, страдания и, возможно, в конце нас ждет неудача. Провал. Печально, больно, но такова цена свободы, заброшенности в наш мир. Мы обречены быть свободными, и это замечательно. Не стоит обесценивать те труды, которыми настоящие люди себя выстраивают, ведь самый главный труд здесь — это искренне пожелать стать большим, лучше, чем ты есть. Решиться на это никакие рыцари, кроме нас самих, не помогут... Итоги? В принципе, итоги, какие-то заключение сказаны в финальных абзацах комментариев к рассказам. В пункте "В чем глубина и посыл?", соответственно. Все неоднозначно и сложно. Природа сознания не разгадана и, надеюсь, как предполагают мыслители вроде Томаса Нагеля, так и останется тайной. Ведь приятно к чему-то стремиться, одолеть что-то, быть в пути к чему-то и знать, что следующим поколением есть куда направить свои мозги. Или души. Сами решайте, какой словарь вам использовать. Посоветую недавно открытую работу Стивена Приста "Теории сознания" — хорошая сводная книга по основным вариантам ответа на данный вопрос, которая не учитывает слишком хорошо известных Деннетов, Серлов и Чалмерсов. Так сказать, только классики, только философский маст рид. Добавлю лишь, что в эту проблему, вопрос наличия свободы воли и далее, нельзя не добавлять, странным образом умалчивать об общественном характере любого сознания и человека как понятия. Об этом исследователи сегодняшнего дня забывают и очень зря. Спасибо Эвальду Ильенкому и Загорскому эксперименту, что оставляют яркую возможность не упускать из виду этот факт. Счастья вам, даже если вы как коллективно-разумный осьминог Питера Уоттса! Всем сознаниям и их отсутствиям спасибо за прочтение. Примечание (*) — переводы этих и не только произведений Грега Игана можно найти на сайте фантлабовца Voyual тут.
|
|
|
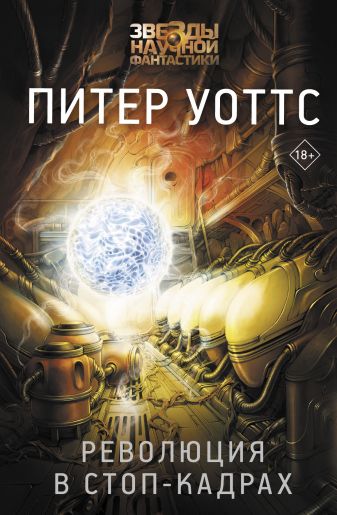


 облако тэгов
облако тэгов