| |
| Статья написана 12 августа 2020 г. 15:18 |
Бог грома Pērkons (Перконс, Перкон) представлялся скачущим на золотом коне (также: «с черной бородой, объятый пламенем, на огненном коне»). В руках у Перконса меч и золотой кнут. Латыши жертвовали ему черного теленка, козу и петуха во время засухи. Практиковались публичные чествования Перконса с возлиянием пива на землю или в огонь. Также громовнику жертвовалась перед едой часть приготовленной пищи для предотвращения грозы. В латышском пантеоне были известны сыновья Перконса, которые символизировали различные компоненты грозы (собственно гром, молния…) и дочери, которые олицетворяли всякие виды дождя (вариант: пятеро сыновей и одна дочь). Древние латыши носили маленькие топоры на одежде в его честь. Символом Перконса также являются «угунскрустс» — «огненный крест» или «грозовой (громовой) крест» и ромб с продолженными сторонами (т.н. «дубочек»). Это распространенные справочные данные. Что можно почитать на русском про Перконса из непосредственно народных преданий? Традиционно, в доступности две книги с профильными текстами. Первая – это «Латышские народные предания», 165 с.; 1962 г., полноформатные черно-белые иллюстрации на вклейках из мелованной бумаги, суперобложка. 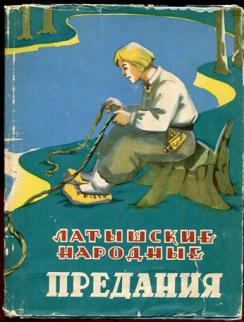
Издательство: Рига: Академии наук Латвийской ССР — соответственно, содержит паспортные данные текстов. Предания, помещенные в сборнике, делятся на 5 тематических групп: 1) космические и метеорогические явления, 2) земля и ее поверхность, 3) живые существа, 4) великаны, богатыри и смельчаки, 5) исторические места, лица и события. Это всё очень хорошо, но есть, к сожалению, нюансы… К паспортным данным нет никаких нареканий (они потом и помогли мне разобраться в ситуации), а вот комментарии ко ВСЕМУ корпусу текстов выглядят следующим образом: 
Как видно, ни один бог мужского пола не прописан – это крайне настораживает! В сей академической сборке в означенном данной темой контексте интересны главки первой тематической группы: «Гром и молния» и «Как гром поразил чёрта» (18-я-19-я страницы). В форме былички приводится предостережение о том, чтобы не грозить "старику Грому" топором, да ещё с такими словами: "не грохочи, не смей сено мочить!" За «кощунственные слова» селянина поразила молния (мне кажется, тут подразумевается: а вот если бы с подношением обратился, гроза б миновала!) Второе предание – о преследовании чёрта Громом, подобное описанному у литовцев в предыдущей главе. «В старину посреди Даугавы лежал большой камень, на нем день и ночь сидел чёрт, причесываясь золотым гребешком. Сидя на камне, чёрт придумывал всякие проказы: лодка ли мимо плывет – он лодку в щепы, рыбак ли окажется поблизости – он ему вовсе голову задурит, а то и утопит. Гром решил проучить наглеца за такие безобразия, а подступиться никак не может: едва Гром в туче приблизится – чёрт шмыг под воду, только его и видели. Тогда Гром обернулся человеком, пришел к рыбаку и говорит: “Посади меня в свою лодку и греби к Чёртову камню. Да не пугайся, как начну греметь: я тебе зла не причиню, а вот чёрту не поздоровится”. Так и вышло: рыбак гребет помаленьку, к Чёртову камню подбирается. Чёрт как раз расчесывает волосы, золотой гребешок сияет-переливается. Вдруг чёрт заприметил лодку. Он тотчас положил гребешок на камень и злобно насторожился. В тот же миг Гром в лодке вскочил на ноги и поразил чёрта жгучим огнем. Чёрт пикнуть не успел, тут ему и крышка. А Гром исчез. Рыбак подгреб к камню, взял себе золотой гребешок и стал богатым человеком.» Как мы видим, в данном предании агонистом обозначена персонификация с большой буквы – «Гром», то есть в исходном тексте (к сожалению, не приведённом) это при простом переводе восстанавливается как «Pērkons» — могли бы так и перевести! Отбросив всякую надежду на так-то неотъемлемое поименование ведущего божества, ищем далее в том же собрании тексты с «громом». Находим сообщение «Арнев камень» (стр. 25): «чёрта гонял Гром, чёрту было некуда деваться, вот он и забрался в Арнев камень. Гром поразил чёрта и отбил при этом край камня». Это (читая такой перевод) нам некуда деваться! Так и ожидаешь в продолжении, что Громом звали ещё одного прапрадеда старого Тука и что отбитый край камня угодил в кроличью нору… Спасает ситуацию другое издание Академии наук Латвийской ССР – на этот раз совместное с Академией Наук СССР – «Лачплесис – Наука, 1975. – 350 с.»: 
Как известно, в советское время часто издавали эпосы народов Советского Союза. Эталонная профильная серия выходила под названием «Эпос народов СССР», с которой, собственно, и начались академические издания с выработанными Институтом мировой литературы требованиями к наличию: билингвы, справки об истории народа, истории фиксации, публикации и изучения эпоса,… «Комментария», «Примечания» и «Словаря». В упомянутой серии издано почти три десятка томов (что доиздавали в постсоветское время, носило лейбл: «Эпос народов Евразии»). Интересно, что только два эпоса были изданы не на двух языках в одной и той же книге: «Украинские народные думы» (понятные и без перевода) и «Лачплесис», в самом начале которого написано: «текст публикуется только в переводе Вл.Державина – на языке оригинала издавался неоднократно». Однако, билингва приведена в «Приложениях» («Комментариях», «Текстах, записанных у народных певцов и сказителей» и «Параллелях к отдельным песням эпоса»). Вот в этих самых «Параллелях…» (к третьей песне эпоса) можно найти текст с теми же самыми паспортными данными, что и последнее упомянутое мной предание в первом сборнике: «На обочине дороги из Риги в Даугавпилс, повыше Кегума, есть иссиня-серый камень, с добрую баню размером, который зовут Арнисовым камнем. Перкон так загнал Вэлна, что тому некуда было укрыться, вот он и залез в Арнисов камень. А Перкон как метнул в Вэлна свою молнию, так и отколол от этого камня осколок». Ну, вот! Ведь можно было и сначала так переводить!! И громовержец в статусном имени, и его антагонист не какой-то там захудалый «чёрт» (Вэлн по приведенному далее в книге преданию – сотворец (пусть и неудачливый) мира)! С надеждой листаем данный свод, и: — Пока … работник всё еще пахал, собрались густые тучи, и увидел он… в воздухе колесницу с белыми конями. В повозке сидел седой старец с длинной бородой и с длинным кнутом в руке. …Это был сам батюшка Перкон. Перкон проехал над обоими пахарями, но вскоре вернулся и ударил крест-накрест своим кнутом по спящему. Тут же сверкнула молния и убила спящего. Молния – это когда Перкон кнутом хлещет. — Грохотал Перкон Всё долгое лето. Послал зелёные травы, Клевер – заглядение. — Греми, греми, Перкон, Разрази мост через Даугаву, Чтоб не пришли враги В землю мою отчую. В издании на самом деле многое можно прочесть про Перконса/Перкона. Для этого надо лезть в сам текст эпоса… Здесь, давайте, мы приостановимся – хотя, казалось бы: «Здорово, прочтём всё в основном сказании!», но здесь одно «но». Ситуация с «Лачплесисом» в «Эпосе народов СССР» уникальна еще и тем, что это единственный авторский эпос, изданный в серии (скажем, «Калевалу» там не допустили к изданию, издали неискажённые руны). А так Андреем Пумпуром в 1888 году написано просто потрясающее произведение с собранием богов «в сказочном Перкона замке» (первая песнь). Сам герой Лачплесис – «Перконом благословенный». В тексте читаем, что «мощные духи с Запада встали, … Перкона власть ненавидя…», латыши – это «подвластные Перкону». Он заставляет зверей и птиц рыть русло для Даугавы, приводит латышей с далёкого востока на запад к «Белому» морю, побеждает в латышской земле злых волшебников, ведьм и «йодов». В последнем прямо чувствуются народные истоки, но критически разбирать весь массив эпоса на предмет, что является нативным, что досочинённым – титанический труд! Что можно написать в заключении? Конечно, о сходстве в мифологии двух братских народов: латышский Перконс громит молнией Вэлна как литовский Перкунас Вяльняса. И поклонения им, в общем, сходны. Интересны отличия в проявлениях: конный Перконс с мечом против Перкунаса с секирой на запряжённой козлами двухколесной повозке… Мне кажется такая тороподобность Перкунаса – наносная, и правы те, которые считают помещённого на современном гербе Литвы всадника как исходное изображение скачущего Перкунаса.
|
Тэги: Перун, громовержец индоевропейцев, Pērkons, Перкон, латыши, громовник балтов, мифы, предания, эпос, Лачплесис, А.Пумпур, этнография | | |
| Статья написана 5 августа 2020 г. 14:29 |
Perkūnas (Перкýнас, Пяркунас, Перкун) — бог-громовержец в литовской мифологии. Подобно тому, как это происходило на Руси во времена кн. Владимира, Перкунас перед крещением стал самым главным литовским богом. Перкунас выступал как бог грозы, дождя, гор (любых возвышенностей), дубов и, даже, неба. Существует версия, согласно которой помещённый на современном гербе Литвы всадник Витис — это видоизменённое изображение скачущего Перкунаса, которое наблюдалось на боевом стяге литовцев в Средние века. На всей территории Литвы находилось множество aukuras (от слова auka — жертва), где горел негасимый огонь. Холмы и рощи, которых Перкунас коснулся молнией, считались священными. Они окружались изгородью и рвом. Самое главное святилище громовержца — Romove (Ромове, храм или место покоя) находилось в Вильнюсе, в долине Швянтарагиса. Перкунас представлялся вооружённым секирой зрелым мужем с каштановой или рыжей бородой, грохочущем на небе двухколесной повозкой. Какие сведения о данном персонаже мы можем получить из переведённых на русский преданий и сказок литовского народа? Мне лично доступны два источника. Первое – это: «Цветок папоротника: литовские мифологические сказания – Вильнюс: Вага, 1989. – 374 с.: ил.» В 2010 году «Литера Нова» переиздала эту книгу уже как: «Цветок папоротника: литовские мистические сказания»: 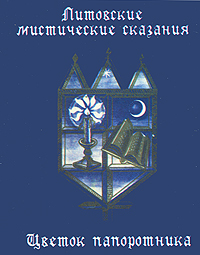
Содержимое данного издания выглядело бы просто как сборник народных быличек, если бы, в главную очередь, не четвертая глава: «Перкунас и Вяльняс». В двенадцати её эпизодах Перкунас предстаёт блюстителем порядка. Он преследует бога подземного мира и мертвых Вяльняса (этимология имени Velnias прозрачна). Вяльняс описывается похожим на человека, только без ноздрей и с «лошадиными ногами», иногда «с рожками», «весь чёрненький», прячется в подоле селянки, оборачиваясь чёрным котом/зайцем, «кажет тучам свою задницу»… И всегда, в любом облике Вяльняса находит Перкунас, разит его молнией! Второй источник — это: «Королева Лебедь. Литовские народные сказки — Вильнюс: Вага, 1965.- 416 с.: ил.» Также есть переиздания, учтённые, кстати, на Фантлабе:  В «Королеве Лебеди» есть три текста с Перкунасом, размещённые почему-то в разделе «бытовые сказки»: А). «Отчего солнце светит днём, а луна ночью» (стр. 390-391). Начинается первая из них крайне глобально. «Давным-давно, в незапамятные времена, когда еще на свете людей не было, жили только Солнце и Луна. Жили они, жили и так друг дружку полюбили, что поженились, а поженившись, вскоре и дочки дождались. Назвали они её Землей.» То есть перед нами, на минуточку, не «бытовая сказка», а доживший космологический текст! Ему бы место в «Цветке папоротника», вот это были б тогда «мифологические сказания»! Далее описывается семейная ссора светил: мол, «один – горячий, другая — ледышка»… Дошло до ювенального вопроса: с кем из родителей останется дочка… Рассудить их смог только «бог грома и молнии» Перкунас: «Солнце будет нянчить свою дочь днём, а Луна — ночью». Б). «Кукушка» (стр. 396-397). «Когда над зверями и птицами ещё властовал Перкунас, тогда он и места, где им жить, определил: аисту – на высоком дереве, утке… — в воде…» Кукушка изворчалась, так «быть ей бездомной, нигде себе места не найти». В). «Отчего крот по дороге ползает» (стр. 401). «Как-то раз всемогущий бог Перкунас созвал зверей со всего света и повелел им проложить дороги по всей земле…» Один крот не послушался, за что Перкунас ему определил: «Коли ты перебежишь через чужую дорогу, то тут же подохнешь». Как видно, даже доступные на русском народные литовские тексты подтверждают общие справочные данные о функции и роли Перкунаса в пантеоне литовских богов. Отмечаются чёткие параллели с мифологией соседних народов.
|
| | |
| Статья написана 2 июня 2020 г. 20:22 |
После вынужденного перерыва готов продолжить выкладывать заметки по нордической мифологии. Заново пишется с трудом, поэтому давайте сейчас про что-то ненагруженное… Что уж скрывать, словосочетание «Дева Ада» как-то волнует мою душу… Причем, не «Госпожа Ада», а именно «Дева»! Образ в масскультуре не то, чтоб растиражированный, но достаточно представленный:  Что же по истокам, что в фольклоре есть на данный персонаж? Древность этого образа определена возникновением, собственно, понятия «Ад»… Можно вспомнить, например, Хель… Хотя так-то Хель, все же, исходя из статуса должна быть «Матерью», точнее, «Хозяйкой» — т.к. у сей богини не описаны потомки. Так что и термин «Дева Ада» в скандинавской мифологии выпадает, если только не избирать кого-то из умерших человеческих детей, которые все до одного, как известно, попадали к ней… Что тогда есть по данному вопросу у непосредственных соседей германцев? Тут гораздо более представительно… Продолжим, конечно, с кельтов. Тут просто захватывает дух от ирландских инфернальных богинь: Бадб, Морриган, Маха и Немаин… Как разобраться: кто из них в первую очередь может считаться «Девой Ада», а кто – нет, когда сами их образы склонны сливаться в одно?  Менее определенно у кельтов, естественно, с самим понятием «Ад», который традиционно по умолчанию описывается с позиций авраамических религий и зороастризма. У германских народов Хельхейм сроден хотя бы тем, что наличествует оппозитная ему Вальхалла. У кельтов, как известно, всё неопределённей… Поэтому переходим сразу по кельтам восточнее – тут традиция чуть повырожденнее, зато и более конкретная в обсуждаемом вопросе… Вот в одной из версий известнейшей старинной шотландской баллады «Томас Рифмач» Томас встретил не «Королеву Эльфландии», а саму «Госпожу Ада»… Но, во всех вариантах, эта (по словам Роберта Грейвса) «средневековая преемница докельтской Белой богини» не выпячивала атрибуты девственности (и, уж конечно, в любом случае их теряла после встречи с Томасом, как, кстати, и собственно привлекательность). У уэльсцев наконец-то читаем в их знаменитом сказании "Килух и Олвэн" (в "Мабиногионе") среди квестов: "найти кровь Черной Ведьмы, дочери Белой Ведьмы, из верховий Долины Горя в горах Ада..." (в транслитерационном варианте перевода: "ведьмы Ордду, дочери Орвенн, из Пеннант-Гофуд, что находится у пределов Аннуина"). Чувствуется уже какой-то привкус? Но здесь только упоминание, без какой-либо конкретики… А вот восточнее Скандинавии, у эстонцев мы находим уже какую-то фабульность, связанную с описываемым персонажем. Кстати, что показательно, у северо-западных финно-угров уже не однажды находились крайне значимые, не принадлежащие им изначально, обломки индоевропейской традиции… Итак, среди сказок подарившего нам «Калевипоэг» Фридриха Рейнхольда Крейцвальда в сборнике «Король Грибов» мы можем найти в первой же истории — «Чудище с севера» что-то очень любопытное... Тихо молясь, чтобы сказка оказалось крайне «малоавторской», читаем о появлении одноименного чудища, которое по описаниям крайне инфернально. Мало того, что химерично (тело быка, лягушачьи ноги) и огромно, оно обладало и спецспособностями: «глаза у чудища горели ярче свечей, и всех своим светом завораживали; как только падал луч на какого-нибудь несчастного, тот сам шёл к зверю на съедение»! Стало известно, что справиться с монстром можно только с помощью одного волшебного кольца; и вот это-то кольцо хранится у Девы Ада… Некий непоименованный юноша после всяческих перипетий оказался у неё… Приведена масса подробностей! Первое их знакомство состоялось у «росного родника», как взошла луна. Там Дева Ада совершала косметические процедуры с заговорами и прочими магическими действиями, которые, видимо, были в ходу у каждой уважающей себя селянки… Далее Дева зазвала юношу к себе во дворец. Птички-помощницы ему подсказали, что следует принять приглашение, но не давать ей ни капли своей крови. Что интересно, во дворце присутствовала еще некая «женщина в красном»… Прислуживали «девушки в белом; ходили они бесшумно, будто на кошачьих лапках, и за всё время не сказали ни слова». Юношу покормили, положили спать одного. Уже на следующее утро Дева Ада без обиняков предложила юноше поучаствовать в её матримональных планах: «- Ты видишь, я молода, красива, сама себе хозяйка. Не думала о замужестве, пока не увидела тебя, а ты мне по сердцу пришёлся. Если я тебе нравлюсь, будь моим мужем. Сам видишь, сколько у меня богатств…» Но юноше из всех богатств нужно было только кольцо, которое он в результате у Девы обманом и выцыганил вместе с описанием некоторых присущих этому артефакту свойств (индукции полета, невидимости и физической силы)… Кстати, перед первым показом кольца Дева Ада пыталась получить у юноши три капли крови. Надо ли говорить, что захватив кольцо, юноша улетел, используя попеременно все опции кольца, расправился с чудищем и женился на местной человеческой принцессе. «Но, как часто бывает, в радости люди и о деле забывают. Никто сразу не подумал, что труп чудища надо закопать в землю. А когда спохватились, то к нему и подойти нельзя было – такой стоял вокруг зловонный смрад.» В общем, для решения данной проблемы, юноше опять пришлось обращаться в птицу с помощью волшебного кольца… При этом, «Дева Ада ни днём, ни ночью покою не знала, всё разыскивала украденное кольцо. Наконец, с помощью чар напала она на след юноши: узнала, что он летит…» за информацией, как справиться с возникшей проблемой… «Обернулась она орлицей, взлетела под облака и начала там кружить, пока не увидела птицу с золотым кольцом на шее. Бросилась тут камнем вниз, вонзила когти в спину птицы и клювом сорвала кольцо.» Внизу (в человеческом облике) Дева Ада выговаривала юноше: «- Я встретила тебя с любовью, а ты… вор и обманщик…» И хоть юноша каялся, участь в последующие годы определена была ему печальной: Дева Ада «надела кольцо на большой палец правой руки и подняла юношу, словно клочок кудели. Принесла она его не в роскошный дворец, а в пещеру, со стен которой свисали железные цепи. Дева Ада приковала юношу к стене за руки и за ноги и сказала недобрым голосом…» К счастью для нашего героя, сказанное ею воплотилось не полностью, и через семь лет последовало освобождение – в этом чудится уже авторский произвол над, в остальном, достаточно самобытным сюжетом. Нативность истории подтверждается «не выстрелившей» Женщиной-в-красном, и некоторыми не упомянутыми мной другими моментами, которые таким крутым литератором, как Крейцвальд, несомненно, были бы подчищены, коли бы он сочинял от начала до конца… Мне видятся в данном тексте осколки древней традиции. Счастье, что мы в результате ознакомления с данной сказкой можем приобщиться к некоторым подробностям быта такого интересного древнего персонажа!
|
| | |
| Статья написана 19 января 2019 г. 19:15 |
Образ Рыцаря как героя (или — антигероя) широко используется в культуре вообще и в литературе — в частности, со времён, понятно, Средневековья.  В последнее время возобновился интерес к архетипу "Красный Рыцарь". Правда, сейчас он показывается, скорее, как положительный персонаж (и, даже, положительный женский). В последнее время возобновился интерес к архетипу "Красный Рыцарь". Правда, сейчас он показывается, скорее, как положительный персонаж (и, даже, положительный женский).
Красный Рыцарь достаточно известен европейским народам. Помните, у Кретьена де Труа: "Парсифаль продолжал свой путь, пока не повстречал Красного Рыцаря, который только что покинул дворец короля Артура. Красный Рыцарь обладал такой силой, что все войско короля Артура не справлялось с ним. Поэтому, когда ему что-нибудь требовалось, он просто приходил и брал это. Да и во всем остальном он делал лишь то, что ему хотелось, никого не опасаясь. Рыцарь ехал, держа в руках серебряный кубок, который украл из дворца. Ни у одного из королевских подданных не хватило мужества его остановить. Последний оскорбительный поступок Красного Рыцаря заключался в том, что он плеснул вино из графина прямо в лицо королеве Гиневре. Пораженный видом Красного Рыцаря, Парсифаль уставился на него во все глаза. Тот был весь в алом: в алых доспехах, лошадь была покрыта алой попоной, седло на ней было алое, и вся экипировка рыцаря и его вооружение были алого цвета. Он представлял собой великолепное, даже роскошное зрелище. Пасифаль попросил Красного Рыцаря остановиться и поведал ему, что тоже хочет стать рыцарем, только не знает, как это сделать. Изумленный наивностью стоявшего перед ним юного дурака, Красный Рыцарь даже не тронул Парсифаля, а лишь сказал ему, что, если тот хочет стать рыцарем, пусть направляется ко двору короля Артура, а сказав так, он громко расхохотался и поскакал прочь..." В плане продолжения серии по нордической мифологии речь поведу о загадочном лиходейном антагонисте фольклора народов Скандинавии — в русских переводах: "Красный Рыцарь" (и, даже: "Рыцарь Ред"). Я встречал данного персонажа в ряде сказок двух скандинавских сборников:  
К сожалению, в обеих книгах нет каких-либо комментариев, справок или указателей, поэтому не понятно какой именно скандинавской страны каждая сказка... Всё же при анализе проявляется датский источник интересующих нас сказок (так-то материковый конгломерат вовсе не превалирует в сборниках — много исландского материала). Интересно, что второй по "дороговизне" цвет викингов входит уже в атрибутику положительного персонажа — норвежского "Зеленого Рыцаря". Что же мы имеем упорядоченного по Красному Рыцарю в указанном сказочном материале? За основу лучше взять вышеупомянутую книгу "Легенды народов Скандинавии" не имеющей аналогов серии "Легенды, предания и сказки народов Европы"... Оговорюсь, что при всем уважении к составителю данной серии А.Платову, книга традиционно (не в пример самому первому из изданий в серии) некомментирована и несколько неполна в своей концепции. Тем не менее, здесь Рыцарь именно "Красный", а не "Ред", как в другом обсуждаемом здесь сборнике — "Сказках...", имеющем еще несколько нареканий к переводам... Итак, "Легенды..." структурированы по 2 разделам: собственно "Предания и легенды" и "Волшебные сказки"... Нас пока интересует второй, который как раз и начинается сказкой с Красным Рыцарем — "Принц Линдворм". Не готов пока развести сказку по классификаторам, поэтому вкратце: не было детей у короля и королевы. Старая ведьма велела королеве съесть либо красную (чтоб родился сын), либо белую (к дочке) розу, но ни в коем случае не обе. Та съела обе. Родились мальчик и змей (Линдворм). Линдворм, как родился, никем не замеченный (кроме матери) выскользнул. Когда выросший человеческий принц поехал за невестой, ему воспрепятствовал Линдворм, считающий, что раз он первый вышел на свет, то и невесту — сначала ему... Стали сватать невест (двух, одну за другой) — принцесс, типа, для челопринца, а оказывались съедены они Линдвормом. Третьей уже подставили прелестную дочь одного пастуха. И вот ей та ведьма рассказала успешный БДСМ-ный способ перевоплощения Линдворма в человеческий образ... Справедлив вопрос: при чем тут Красный Рыцарь? А вот для этого надо лезть в томик "Сказки..." и там есть та же, в общем-то, сказка уже с локализованным названием "Король Дракон". Но здесь сюжет не заканчивается счастливым преобразованием змея-первенца... Дракон ушел воевать; его жена — б.пастушка понесла и родила — кто б мог подумать! — опять двух братьев. И вот оно! По идее, первое упоминание: "А в то время служил при королевском дворе... злой рыцарь Ред". Дальше идет мировой сюжет типа "Царя Салтана"... На предфинальной разборке выяснили, что "во всем виноват Рыцарь Ред. Позвали его, заставили признаться в черном деле, а потом посадили в бочку, изнутри гвоздями утыканную; привязали ту бочку к четверке лошадей, и покатили её по рытвинам и ухабам." Знамо дело: "после победы Добро долго жестко насилует Зло"! Однако, осмелюсь предположить, что не таков Красный Рыцарь, чтоб окончательно закрутиться в бочоночке... И, действительно, Красный Рыцарь появляется далее в сказке "Коротышка" сборника "Легенды..." Тут начальная ситуация диаметрально противоположная: малообеспеченная супружеская чета ежегодно плодит детишек. Очередными стала двойня мальчиков — родились, и сразу по-богатырски отправились в путь... Разделились. Младший по пути набрал у демонических женщин артефактов; дошел до неблагополучного королевства, принцесса которого обещана трем троллям: "Красный Рыцарь обещался её спасти, но никто не знает, хватит ли у него духа..." Далее младший три раза проигрывает андромедный вариант с довеском в виде трусящего Красного Рыцаря, прячущегося на ближайшем дереве... То есть на самом деле, это ближе будет к "Ивану, крестьянскому сыну, и Чудо-Юдо". "А Красный Рыцарь, как увидел, что бояться больше нечего, тут же слез с дерева, подошел к принцессе и давай ей грозить; и грозил до тех пор, пока она не обещала сказать, будто это он спас ее от тролля." На свадебном пиру красного злодея и принцессы все разъяснилось... "И вот Красного Рыцаря бросили в колодец к змеям и чудовищам", с которыми тот, видимо, поладил, так как вновь объявляется в тексте "Рыцарь Гренхат" книги "Сказок..." Там опять дело начинается с нищей четы, родившей сапковского Дитя Предназначения — только, мальчика (Гренхата)... Вначале идет международный, понятно, сюжет "Ученик чародея". Чародей, как отучил всему, говорит Гренхату: "Ступай в королевский замок и наймись там на службу. Сперва попросись на службу конюхом. И не бойся, долго ты в конюшне не останешься. Только остерегайся... Рыцаря Реда; где его увидишь, туда лучше и на службу не поступай, потому что второго такого злодея и предателя свет не видел..." Предостережение оказалось дельным, но, как водится, не сработало: "стал Рыцарь Ред ему завидовать..." Пошел "коньково-горбунковский" сюжет с той особенностью, что Красный Рыцарь тайком сопутствовал Гренхату и столкнул его с корабля в море, когда возвращались с принцессой... Принцесса по приезду в королевство включила немую, поэтому дальше чуть было (по совету Реда) не дошло до костра по плану андерсеновских "Диких Лебедей". Добро вовремя реализовалось; "и злого Рыцаря Реда спалили дотла!" Теперь, видимо, летально, так как больше текстов не приводится... Какое резюме? Скандинавский "Красный Рыцарь" несомненно подлее и слабее артуровского... Но, видимо, стоит признать, что в таком виде Красный Рыцарь явно замещает древнего трикстерного персонажа.
|
| | |
| Статья написана 23 октября 2018 г. 21:37 |
Это, конечно, "Старшая Эдда". Сообщением, посвященном столетию издания в полном русском переводе данного Памятника, открываю серию статей по европейской нордической мифологии. Вначале позволю процитировать авторитетнейшее мнение М.И. Стеблин-Каменского, статья которого сопровождает все общедоступные издания "Старшей Эдды": "Слово "Эдда" значит теперь совсем не то, что оно значило когда-то, а что оно значило первоначально — вообще не известно. В средние века так называлась книга, написанная в 1222-1225 гг. знаменитым исландским историком и поэтом Снорри Стурлусоном (1178-1241). На одной из рукописей его произведения есть надпись: "Книга эта называется Эдда, ее составил Снорри Стурлусон". Возможно, что она была названа так самим автором. Книга эта представляет собой учебник поэтического искусства и содержит обзор языческой мифологии (в тон мере, в какой эта мифология была основой поэтической фразеологии), обзор поэтической фразеологии с многочисленными иллюстрациями из старых исландских авторов и образцы стихотворных размеров, сочиненные Снорри Стурлусоном и составляющие вместе целую поэму. Книга эта была учебником того вида поэтического искусства, которое издавна процветало в Исландии и называется "поэзией скальдов", или "скальдической поэзией". Основные черты этой поэзии — во-первых, осознанное авторство: все скальдические стихи имеют авторов, и эти авторы и называются "скальдами"; во-вторых, чрезвычайно вычурная форма; в-третьих, актуальное содержание: поэзия скальдов — это хвалебные песни, поносные стихи или стихи к случаю. Поэзия скальдов совсем не похожа на ту поэзию, которая теперь всегда связывается с названием "Эдда"; можно даже сказать, что поэзия скальдов противоположна ей. Однако в средние века в Исландии называли "искусством Эдды" именно поэзию скальдов, ее вычурную и темную фразеологию. Неясно, почему книга Снорри Стурлусона получила название "Эдда". Есть три этимологии этого слова. Одни считают его производным от "Одди", названия хутора, где Снорри воспитывался и, может быть, нашел материалы для своей книги. "Эдда" в таком случае значит "книга Одди". Другие производят слово "Эдда" от óðr — слова, которое иногда имело значение "поэзия". "Эдда" в таком случае значит "поэтика". Третьи отождествляют название книги Снорри со словом "эдда", которое встречается в одной древнеисландской песни и, по-видимому, значит "прабабушка". В этом случае книга Снорри была почему-то названа "прабабушкой". Все три этимологии были выдвинуты давно и по очереди снова выдвигаются и отвергаются." Я позволю себе выдвинуть еще одну профанскую этимологую: а не может ли она значить "Веда" (санскр. वेद, véda — «знание», «учение»)? Поговорим о прошедшем юбилее... Как писала замечательная переводчица О.А. Смирницкая: "Автор первого в России полного перевода «Старшей Эдды» — Софья Александровна Свириденко (российская поэтесса, прозаик, переводчик-эквиритмист, музыковед, музыкальный критик); до этого русский читатель вынужден был довольствоваться переводами или, точнее, переложениями отдельных эддических песней, по большей части имеющими самое косвенное отношение к оригиналу. У «Эдды» Свириденко — драматическая судьба. Труд этот был воспринят современниками как литературное событие и отмечен в 1911 г. главной премией Императорской Академии Наук. Первый том «Эдды» (мифологические песни) вышел в свет в 1917 г. в знаменитом московском издательстве Сабашниковых. Судьба второго тома (Младшая Эдда) долгое время оставалась неизвестной. Во всяком случае, М.И. Стеблин-Каменский, подготавливая к изданию в серии «Литературные памятники» новый перевод эддических песней, видимо, ничего не знал о его существовании." Кстати, сейчас наконец-то переиздают классический перевод С.Свириденко. Как известно, "Старшая Эдда" что в ЛитПамятниках, что в БВЛ представлена 10-ю основными песнями о богах (из которых одно "Прорицание вёльвы" ценнее, на мой взгляд, всех к настоящему времени "собранных" северных эпосов), 19-ю песнями о героях (в них, как известно, лакуна — выпала целая тетрадка из "Королевского кодекса") и 6-ю эддическими песнями, сохранившихся не в "Кодексе" (в том числе знаменитые "Сны Бальдра" и "Песнь о Риге")... В "комментариях" к этим изданиям читаем: "В древнеисландской литературе есть еще много других песен эддического стиля. Так, в немецкий перевод "Эдды" Ф. Генцмера включено 26 песен, которых нет" в "Королевском кодексе". Еще один из этих дополнительных текстов есть в изданиях С.Свириденко: "Песнь о Свипдагре", которая состоит из 2-х частей ("Заклинания Провидицы Гроа" и "Песнь о Фйольсвидре"). Я осведомлён о наличии русских переводов еще 7-и песен: "Песни о Хьяльмаре", "Песни о Хервёр", "Песни о воинах Хальва", "Загадок Хейдрека", "Древних речей Бьярки", "Предваряющей песни, или Вороновой ворожбы Одина" и неимоверной "Песни о Солнце". Так когда же, когда с нами пребудут ещё более десятка песен? Есть ли они в новопереведенных "сагах" и "прядях"?
|
|
|
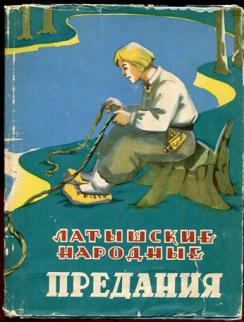


 облако тэгов
облако тэгов
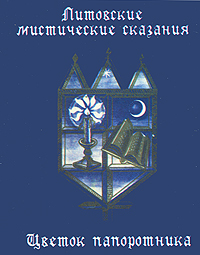



 В последнее время
В последнее время 
